
Строгино, каким его мало кто знает…
МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА
Памяти Любови Можаевой (Фирсовой)
Позову я друзей, вместе вспомним былое,
В белых вишнях весну, вечера над рекой.
Дорогих мне гостей встречу ласковым словом,
Им в глаза загляну и оттаю душой.
Деревенька моя,
Свет окошек в заречье.
Где стояли дома,
Ветки плачутся в плечи.
Деревенька моя,
К годам детства тропинка,
Ты мне в сердце вошла,
Жизнь качнула былинкой.
Синь небес – васильки – собирала в букетик,
Пели мне соловьи по зелёным лесам.
Самоцветы-лучи сенокосного лета
Земляничный рассвет разливали лугам.
Деревенька моя красовалась с пригорка.
Огороды зимой утопали в снегах.
И, румянец даря, красногрудая зорька,
Снегирями слетев, угасала в садах.
Высоко в облаках слыша крик журавлиный,
Не ступить мне теперь на родимый порог,
Чтобы в небе увидеть, как тянется клином
Незабвенная память ушедших дорог.
Владимир Богданов
“Детство – это небо
С клином улетевших журавлей,
Это старый домик на пригорке
И журчащий гомоном ручей”.
СТРОГИНСКОЕ ДЕТСТВО
“Без порога от дома нет дороги домой”
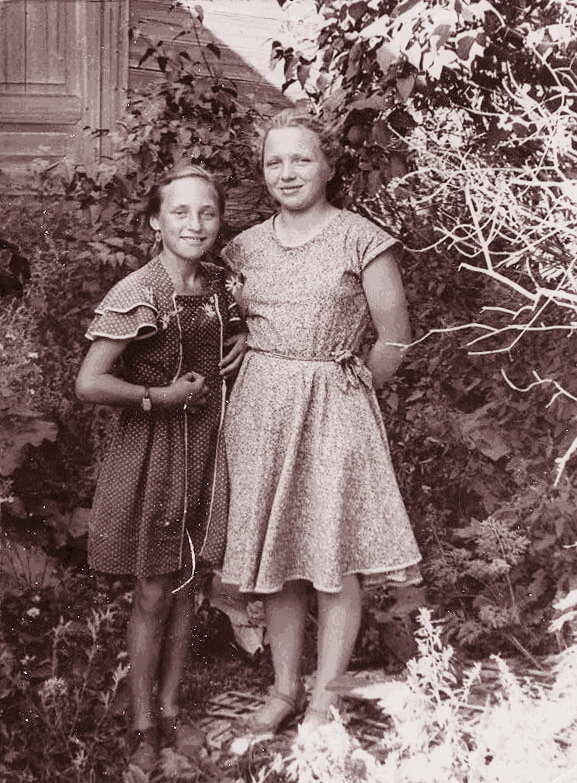
Деревня Строгино, 1956 г.
Я начинаю свой рассказ о семье, в которой родилась. Мать – Фирсова Екатерина Александровна (19.07.1903 – 14.11.1981).
Отец – Фирсов Петр Федорович (12.01.1900 – 27.04.1974).
В семье было семь детей: четыре брата – Борис, Алексей, Валентин, Геннадий, три сестры – Нина, Галя и я, Люба.
В настоящее время мы остались с сестрой Ниной вдвоём.
Моя мама в одиннадцать лет осталась сиротой. Проживала она с двумя братьями, Сергеем и Константином, в селе Хорошево (конечная остановка трамвая № 28).
Её отец после смерти моей бабушки женился второй раз, а маленькую Катю отдали в люди в деревню Строгино, в богатый дом Калугиных, где она проживала до тех пор, пока не вышла замуж за середняка Фирсова П.Ф. Бесприданница с большой чёрной косой, ладной фигурой и очаровательными, чуть грустными голубыми глазами.
В доме свекрови (бабушки Елизаветы) и свёкра (дедушки Фёдора), по воспоминаниям мамы, её не обижали. Была она трудолюбивая, молчаливая, исполнительная. Про таких говорят: “Мастерица на все руки”.
Жили они в небольшом домике, куда привёл свою жену, красавицу Анну, средний брат Андрей. Старший брат Павел женился раньше и проживал на Колхозной улице. Андрей тоже отделился и выстроил дом на Центральной улице.
У Павла было шесть детей – три мальчика и три девочки.
У Андрея – сын и три дочки.
Семья отца постепенно обрастала детьми, и они с дедушкой Фёдором купили дом – бывшую харчевню.
В доме было семь окон и много комнат, отделённых деревянными перегородками. Обогревали его две печки. Одна, русская с лежанкой – на кухне; вторая, чугунная – в передней комнате, потому что дом был большой, и тепла от одной печки не хватало.
К дому были пристроены дополнительные хозяйственные помещения: стойло для коровы и лошади, закуток для поросёнка. На чердаке хранили сено, которое покупали в Подмосковье или везли из-под Тулы отец с братом матери Сергеем, потому что сена, накошенного вокруг берега и на лугу, на зиму не хватало.
Под чердаком было такое углубление, которое в конце зимы отец с братьями, а потом и с нами набивали льдом, отколотым от колонки у берега реки, и затем засыпали песком, соломой и сеном. Служило это место в летние месяцы холодильником, и туда ставили молоко в бидоне, нехитрую снедь, которую покупали в магазинах: селёдку, сало, мясо от зарезанной скотины.
В так называемом подворье хранились все предметы, необходимые в крестьянском хозяйстве: лопаты, грабли, соха, сечки для резки капусты, деревянные корыта, бочки для засолки, косы, серпы, тяпки, сани-розвальни.
Дом начинался с пристроенной террасы, потом шли сени.
Из сеней одна дверь вела в подворье, другая – в дом, к лестнице на чердак. В сенях находилась маленькая таинственная комнатка, куда нас, ребятишек, пускали с разрешения взрослых. А хранился там старый сундук, окованный железом; в нём лежали вещи, оставшиеся от стариков. Висела лампа со стеклом для освещения, фонарь для тех времен – просто невидаль. В маленькое окошко едва проступал свет со старой терраски, где мы, ребятишки, устраивали концерты.
Ещё там лежали книги, которые очень любил, покупал и хранил отец. Некоторые были в старинных переплётах с буквой “ять” – Пушкин, Достоевский, Куприн, Гоголь, Тургенев, Мамин-Сибиряк, а многие другие – в обыкновенных переплётах и уже без буквы “ять”. Различные старинные журналы, газеты –там же.
В этой комнате отец хранил в маленьком сундучке табак, выращенный своими руками, сеть для ловли рыбы, удочки. Иногда отец водил меня сюда и показывал все эти вещи, называл их сокровищами. Особенно он дорожил книгой К. Беркова “Герои и мученики науки”, изданной в 1939 году. Эту книгу я храню до сих пор.
Первой комнатой была кухня с русскою печкой. Здесь находилось хозяйство матери: чугуны и чугунки, кочерга, сковородки и ухваты, вёдра и бидоны, кастрюли и тарелки, вилки, ножи, ложки.
Стоял столик с двумя ящиками, куда складывали нужные на кухне предметы. На лавке – два ведра с чистой водой, которую носили на коромысле сначала с Центральной улицы, где была колонка, а потом с Набережной улицы, где сделали свою колонку. Она была недалеко, и иногда вёдра носили в руках, но коромысло всё равно берегли.
На кухне висела закрытая цветной занавеской полка, где мама хранила крупу, соль, сахар, подсолнечное масло и много всего другого, что только ей было понятно.
Там лежала деревянная пасха с буквами “ХВ” (Христос воскрес), хранились перышки от курицы, которыми смазывали взбитым яйцом пироги, разные щипчики и щипцы.
Из кухни можно войти в комнату, где стоял иконостас. Это была особенная гордость матери – старинные иконы, убранные в киоты, украшенные позолотой и серебром.
Перед образами висела лампада вишнёвого цвета, в неё наливали особенное масло – вазелиновое, а зажигали её по праздникам.
Иконы были разные: Иисус Христос Спаситель, Казанская Богоматерь, Неопалимая Купина, Великомученика Пантелеймона, Нечаянная радость.
Все иконы тщательно убирались перед любым праздником. Мама их натирала какой-то зелёной пастой, вытирала с них пыль, а лица слегка смазывала тряпочкой, смоченной в подсолнечном масле. Убирала лики святых искусственными цветами.
В основном обстановка была, как у всех. Железные кровати с никелированными наболдашниками, покрытые самоткаными покрывалами, набором подушек; по низу кроватей шли подзоры, вышитые своими руками.
Подушки покрывались накидками из тюли или вязаными крючком. Роскошью в доме считался диван. На нём – льняное покрывало, а валики покрывали тем же материалом и завязывали концы, чтобы валики принимали округлую форму.
Был комод, как сейчас помню, чёрный, с потрескавшейся краской, с выдвижными ящиками для хранения белья. Комод накрывали вязаной салфеткой.
Стол покрывали скатертью, в каждом доме своей. Вокруг стола стояли лавки, позже их заменили недорогими стульями.
Гардероб также был стареньким, с перекошенной маленькой дверцей, и его называли шкафом, а за широкой дверцей висели вещи. Позже, когда пошли работать братья и старшие сёстры, этот шкаф заменили трехстворчатым гардеробом.
Деревенские дети – дети простора, земли, голубого неба, ласкового солнца, свежего и чистого воздуха, речной прохлады. Мы росли среди полей, садов и огородов, вдыхая неповторимый запах парного молока, когда скотину гнали с луга домой. На улице ребятишки лопатами собирали оставленные коровами блины – навоз для удобрения. Запах деревни передать почти невозможно. Его нужно прочувствовать нутром. Широко раздуть ноздри, глубоко вздохнуть и втянуть в себя.
У каждого дома запах свой, свои щи и пироги, своя скотина.
Я родилась 13 ноября 1944 года, когда отца комиссовали после ранения домой. Родилась на сенокосе – на лугу, куда маму послали на лёгкую работу, ворошить сено между деревней Строгино и селом Троице-Лыково.
Мама рассказывала, как всполошились вокруг бабы, когда начались роды, оказывая при этом необходимую помощь. На лошади с подводой приехал мой отец. Женщины помогли погрузить нас с мамой на подводу – и он повёз нас домой (а там повитухи сделали свое дело), повторяя при этом:
– Моя Катя – великая женщина, родила мне дочку Любочку.
Через несколько дней радостный отец привёз нас домой.
А выражение “Моя Катя – великая женщина” так и осталось в нашей семье. Когда в престольный праздник приходили к нам гости, он всегда просил:
– Пусть споёт моя Катя, великая женщина.
Положили меня в люльку, прикреплённую к потолку. Так и началось моё незабываемое детство под присмотром старших братьев Геннадия и Валентина, сестёр Нины и Гали, так как мать работала в колхозе с утра до вечера, а отец работал сторожем на красильной фабрике в Щукино.
Я подрастала. Когда начала ходить и лепетать первые слова, сшили мне из старых чулок куклу.
Папа на белом кусочке материи нарисовал лицо и раскрасил бровки угольком, глазки химическим карандашом, кусочком варёной свеклы навёл румянец и губки.
Куклу набили ватой, приделали ручки, ножки. Надели платочек. Мама сшила красное платьице. С этой куклой я не расставалась ни днём, ни ночью.
Надо отметить, что до шести лет детство моё было тревожное. Болел мой брат Гена, мальчик с голубыми печальными глазами. Он очень помогал родителям. Торговал на Всехсвятском рынке (ныне Ленинградский) зеленью и овощами, что выращивали на огороде.
Любил он ходить к соседям, к своей подружке Полинке Романовой играть в лото, иногда и меня водил с собой. В эту игру играли взрослые и дети. Меня не брали играть, я сидела на порожке и следила за происходящим.
Из большого мешка вытаскивали деревянные бочонки с цифрами и расставляли их на карточки. Кричал цифры один человек. Иногда цифры заменялись словами: барабанные палочки (11), дед (90), бабка (80), 33 (жиды), 44 (стульчики), 21 (очко).
Играли на медные деньги. Их ставили на кон. Часто выигрывал мой Геночка. В игре ему везло, а вот здоровье было никудышним. Сердце плохо справлялось. Он из худенького мальчика превращался в отекшего. Руки и ноги, лицо – всё было опухшее. Мамка часто плакала, жалела его. Водили его по врачам, но всё напрасно.

Люба Фирсова с племянницей Надей (в середине), справа Оля
Я иногда вставала ночью и, скрестив на груди руки, просила:
– Боженька, помоги Геночке, чтобы он поправился. Боженька, сделай так, чтобы мамка не плакала.
От пламени лампады мне казалось, что лики святых колышутся. Мне было страшно, но всё равно просила, плакала.
Геночка умер в 16 лет, так пришло первое горе в наш дом.
Я уже не бегала встречать его с рынка с гостинцами. Это мой Геночка подарил мне куклу-голыша, которую я потихоньку называла Геной и очень гордилась, что у меня настоящая кукла.
Я с детства, как и все, была приучена к труду.
В маленьком деревянном ведёрке вместе со старшими носила воду из реки по крутому берегу, позднее мы брали воду из колонки. Доверяли мне прополку. Трудиться было мне нелегко. Но это ведь наш сад, наш огород, им нужны влага и прополка, чтобы расти и цвести, радовать наш взгляд.
Но играть я тоже успевала. Подружек было много и рядом со мной, и на других улицах. Возле меня жили Лида, Лена Червякова, Таня Золина, Вера Замотина, Таня Блаженкова и наши “женихи” – Саша Ширяев, Боря Заломаев, Леша Власьев.
Играли в куклы, ходили др уг к другу в гости. Игр было много. Вот, например, штандер. Все вставали в круг, один подбрасывал мячик и кричал: “Штандер!” – Кто его ловил, бил им о землю до тех пор, пока мячик не перехватывал кто-нибудь другой. И так до тех пор, пока все не наиграются.
уг к другу в гости. Игр было много. Вот, например, штандер. Все вставали в круг, один подбрасывал мячик и кричал: “Штандер!” – Кто его ловил, бил им о землю до тех пор, пока мячик не перехватывал кто-нибудь другой. И так до тех пор, пока все не наиграются.
Семья Фирсовых
Прыгалки. Двое держали верёвку и крутили её, а остальные по очереди прыгали через неё, кто как мог: и на одной ноге, и перебирая ногами, и переворачиваясь.
Играли в прятушки, в салочки, в казаки-разбойники.
Я была маленького роста, но бедовая. Любила играть с мальчиками в “расшибалочку”. Выбирали прямую дорожку, чертили черту, ставили медные деньги друг на друга – это кон. С расстояния десяти шагов небольшой оловянной битой старались попасть в кон. Кто первый попадет той битой, разбивает монеты, а потом бьёт по каждой монетке отдельно, если перевернётся – твоя.
Как-то я выиграла весь кон – пять монет.
Один мальчишка разозлился, отнял биту и кинул в меня. Это был Валерка Соловьёв с другой улицы, сильный и хулиганистый парень. Удар пришёлся по брови, до сих пор метка осталась. Нет, я не плакала, потому что не боялась боли и крови.
Я руками почувствовала, что бровь становится больше и больше. Бегом на речку, а из неё на меня посмотрело испуганное лицо с большим синяком. Все ребятишки – рядом. Кто даёт подорожник, кто лопух, а я боюсь идти домой. Пришла попозже. Выпила из кринки молоко с чёрным хлебом и, тяжело вздыхая, тихонько легла к маме.
Уснуть не могу, вздыхаю: больно. И вдруг моя самая родная на свете, самая любимая мамочка обняла меня и спросила:
– Что случилось, девочка ты моя?
И тут из глаз моих брызнули слёзы, не знаю, слёзы радости или обиды. Ведь она уже знала, что со мной случилось. В деревне новости разносились со скоростью звука. Мамка промыла ранку и сказала:
– Всё, до свадьбы заживёт.
Но маленький шрам на брови до сих пор ношу.
А на мальчишку я не сердилась, ведь обиды в жизни проходят быстро, тем более, он нас, девчонок, водил на луг. На холмах были маленькие озёрки, прозрачные, холодные, но всё равно мы лазили в них купаться.
Собирали после дождя грибы-дождевики, похожие на опята, только росли они поодиночке.
А наше купание в реке до посинения! Все мы рано научились плавать, нырять с головой. Плавали наперегонки, потом отдыхали на солнышке и – опять в воду.
Проголодаешься – сбегаешь домой за хлебом с подсолнечным маслом и огурцом, посыпанным солью. В карманы наберёшь жмыха соевого и подсолнечного – и опять на речку. Носы у всех загорелые, облупленные. Довольные и счастливые, еле-еле бредём по домам.
А назавтра – помощь по хозяйству и опять игры, купание. Одевались все мы почти одинаково. Сарафан, сатиновые шаровары. На ногах старенькие туфли, а лучше босиком. Песок не мешает бегать. В этой одежде было удобно играть, лазить по деревьям.
Через полгода, в 1951 году, умер мой брат Валентин. Многие его считали красавцем. Носил он тельняшку и форму морскую, привезённую из Феодосии моим старшим братом Алексеем, который был моряком и после армии служил в Феодосии.
А случилось это так. Валентин на танцах заступился за девушку. А потом его подкараулили и избили. Сильный удар пришёлся по голове, как потом оказалось, свинцовой печаткой. Пришёл домой вечером, никому ничего не сказал. Только попросил меня дать другую рубашку и попить. Лёг в сенях, чтобы мамка не видела. Утром поехал на работу. Работал на стройке шофёром. С работы отправили в больницу, из неё уже не вышел: у него оказалось сильное сотрясение.
Горе матери просто описать нельзя. Она выплакала все слёзы, и только огромные печальные глаза смотрели вопросительно: за что? За что такие муки?
Так я лишилась ещё одного брата, которого очень любила и которым гордилась. Больше с получкой он не приносил мне гостинчик, а на моём больном уже сердце остался рубец невосполнимой потери.
Брат Борис после войны завёл себе голубей. Это было почти повальное увлечение. Голубятню построил сам. Сам и за птицами ухаживал. Очень их любил. Бывало, возьмёт голубку, беленькую, как чистый снег, напоит её изо рта водой, подержит в руках и запускает.
Она летит в голубое небо стремительно, наслаждаясь свободой и простором.
Затем откроет клетку – и другие голуби устремляются к ней.
Иногда голубка привлекала к нам “кавалеров”, и они прилетали в нашу клетку.
Борис мог часами наблюдать за голубями. И правда, они были забавными, ухаживали друг за другом и даже по-птичьи целовались.
Кто-то из знакомых подарил отцу петуха. В доме у нас кур не держали.
Отец всегда говорил:
– Птица вредна для огорода.
Я боялась этого петуха, он клевался, бегал за мной. Не трогал только маму и отца. Когда к нам заходили люди, всегда кричали:
– Ой, Катюша, убери петуха, боюсь!
И всё бы ничего, но однажды он клюнул в голову чужую девочку. Это было уже слишком!
Его закрыли, долго не выпускали на улицу. Потеряв свою власть, он стал каким-то вялым, плохо клевал.
Потом его зарезали, но мясо отдали соседям, сами есть не стали: было жалко.
В деревне моего отца звали почтительно – тружеником.
Вставал отец рано, в четыре часа утра. Купался в речке и до самого обеда был в огороде.
Все грядки у него были на загляденье. Да и урожай всегда неплохой, хотя в основном растили капусту и рассаду продавали жителям деревни, поселковым. Сорта разные: белокочанная, цветная, кольраби, – последнюю только продавали. Она такая зелёная, как свекла, круглая, корни в земле, сама наружу.
Отличная росла морковь, и отца иногда в шутку называли: Петя-морковник.
Когда мне было шестнадцать лет, отец отрастил усы и бороду. Стал похож на Мичурина. С ранней весны до поздней осени ходил босиком. Вся деревня уже перешла на цветы, от цветов был большой доход, а мы так и остались огородниками. Отец любил угощать деревенских своим выращенным табаком.
Весной и летом мы, ребятишки, любили играть в чижика. Чижик был четырехгранный, сделанный из куска дерева, заострённый с двух сторон. На середине каждой стороны делали насечку и писали фиолетовым карандашом 1,2,3,4 – это очки.
Чижики и лапта были у каждого. Игра начиналась так: чертили на ровном месте квадрат, в середину клали чижик; первый игрок бил по заострённому концу, чижик подхватывали лаптой и бросали его, как можно дальше, чтобы следующий игрок мог не сразу попасть затем в квадрат. Находились такие игроки, особенно мальчишки, которые ловко подбрасывали его на лапте, уходя от квадрата всё дальше и дальше. Когда чижик падал, другой игрок подбрасывал его поближе к квадрату. Очки считались по количеству ударов и по тому, на какую сторону упадет чижик: если 3, то три очка, если 1, то одно очко.
Казалось бы, игра простая. Но она захватывала азартом, желанием победить.
Любили мы сидеть на лавочке после купания и говорить скороговорки. Их было множество. Все запомнить трудно. Но суть состояла в том, чтобы сказать скороговорку быстро, выговаривая чётко все слова. Здесь победителей почти не было. Все ошибались. Приведу несколько примеров:
“Борона боронила неборонованое поле”, “На возу лоза, у воза коза”, “Ткёт ткач ткани на платье Тани”, ”Один Клим клин колотил, колотил и выколотил”, “Тимошка Трошки крошит в окрошку крошки”.
Когда играли в прятушки, тот, кто водил, должен был искать других. Он закрывал глаза и вслух причитывал:
“Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три Егорка…” – и так до десяти, пока все не спрячутся.
“На дворе трава, на траве дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова… отвори, Варвара, ворота”.
Я уже писала, что любили мы, девчонки, играть в куклы, давали им имена. Сшитую мамой куклу я назвала Матрёной, а голыша – Геночкой. Надевали на них разные одёжки, сшитые матерями, наряжали их и ходили друг другу в гости.
Не было у меня никогда красивой куклы с закрывающимися глазами, нарядной, в туфельках.
И сколько я ни просила Боженьку, чтобы Дед Мороз принёс в подарок мне такую красавицу, он так её и не принёс.
Бывали у меня под ёлкой подарки, которым я радовалась – это кулёк с гостинцами, сандалии, иногда отрезы на платье.
А однажды Дед Мороз принёс мне детскую глиняную посуду. Шесть чашечек и шесть блюдечек. Они были коричневые, с жёлтыми цветочками по бокам – моя гордость, моя восторженная радость.
Годы шли, мы взрослели и уже сами научились шить кукол. Шили по очереди то у Веры Замотиной, то у нас, то у Тани Блаженковой. А меня мама научила вышивать стебельком и крестиком.
На память приходит одна история, связанная с куклой. Однажды около колонки я познакомилась с девочкой Наташей. Она с тётей Катей пришла за водой.
Девочка была городская, одетая в голубое платье с рюшками, в синие туфельки и белые носочки. Тщательно причёсанная. В косе белый бант. В руках она держала такую куклу, которой не было даже у моих подруг и мысль о которой даже не могла зародиться в моей головке.
Длинное розовое платье, белая шляпка в кружевах, на ногах туфельки. Руки и ножки двигались. А голубые глазки с ресницами закрывались.
Я поздоровалась с тётей Катей. Она жила в самом красивом доме – Калугиных. У них даже загородка была вся резная, железная, с кнопочкой у ворот.
Тётя Катя познакомила меня с девочкой. Та пригласила меня в гости. Дома я сняла свои сатиновые шаровары, пригладила непослушные волосы водой, взяла своего голыша и пошла, надев своё самое нарядное платье из синего ситца с белыми ромашками и сандалии, которые не любила, потому что в них всегда попадал песок.
Нажала на кнопочку. Тётя Катя – то ли она была дальней родственницей Калугиных, то ли вела хозяйство, не помню – открыла калитку, и я очутилась в благоухающем саду, где росли очень красивые цветы, названия которых я даже не знала. Пригласили на террасу, большую, светлую, с круглым столом, стульями, занавесками.
Здесь в тёплое время обедали.
Тётя Катя накрыла стол, поставила большие глубокие тарелки с узором, а под них – тарелки такие же, но более плоские.
Принесла супницу. Узор на всей посуде одинаковый. Налила нам с Наташей суп, очень вкусный, но уже не могу вспомнить, из чего он был сварен.
Ложки – тоже с узором вдоль ручки, как бы железные, но потом я узнала, что они серебряные.
На второе – котлеты с картофельным пюре, но их уже положили на плоскую тарелку. Боже! Вот вкуснота! На что мамка – мастерица, но то кушанье казалось мне тогда просто необыкновенным.
На третье дали компот в красивых чашках. А потом, поблагодарив за угощение и помыв руки, мы принялись за игру.
Наташа вытащила целый клад: детскую посуду, детскую кроватку и платья для кукол.
Особенно мне понравилось детское атласное одеяльце, бордовое, а по краям оторочено белым атласом.
Наигрались мы вдоволь. А одеяльце всё не выходило из головы. Как мне захотелось такое! И я незаметно засунула его под платье. Распрощалась со всеми и – домой. Дома потихоньку его спрятала, переоделась опять в сарафан с шароварами. Но совесть не давала покоя. Я взяла чужое. Боженька накажет. А что мамка подумает?
В этот вечер спать легла пораньше, заснуть не могу, вздыхаю. И всё думаю, что теперь Наташа не будет со мной играть, дружить, а мама будет ругаться.
Из моих глаз полились слёзы, немые слёзы.
И опять на помощь пришла моя самая любимая на свете мама:
– Ты что не спишь, дочка? Уже поздно. Или случилось что?
Тут уж я не выдержала и заревела во весь голос. Спрыгнула с кровати, достала одеяльце и показала матери.
– Ты взяла чужое, это нехорошо, надо вернуть всё назад немедленно. Одевайся и отнеси. Скажи, что взяла поиграть.
Я быстро оделась, вышла с мамой на улицу. Темно, страшно. А она, моя дорогая, говорит:
– Иди, доченька, и никого не бойся, я у калитки тебя подожду.
И ни одного упрёка! Уже не помню, как дошла до Калугиных, нажала на кнопочку. Вышла тётя Катя, и я отдала ей одеяльце. Я не просила прощения. Я вообще ничего не говорила, только плакала.
Тётя Катя погладила меня по головке:
– Не плачь, Любочка. Молодец, что принесла, и приходи к нам завтра.
Домой я просто бежала, слёзы высохли, а у калитки стояла моя мамка и ждала свою дочку. Сказала строго:
– Никогда, слышишь, никогда не бери чужого. Лучше отдай последнее, но своё.
Это был урок на всю жизнь.
Наташа на следующий день сама ко мне пришла поиграть, а в подарок принесла одеяльце, но я его не взяла. Мы с ней встречались ещё несколько дней, а потом она уехала в Москву.
Помню, что в дальнейшем она стала журналисткой.
Уже на Новый год Дед Мороз принёс мне в подарок одеяльце, сшитое маминой рукой из красного куска сатина, и вдевалось оно в настоящий белый пододеяльник из белого ситца.
Хочу рассказать о том, как проводили мы, ребятишки, зимнее время. Катались на стареньких лыжах, доставшихся от старших. Лыжи были с одной палкой. Сапоги вдевались в кожаный ремешок. Мы катались с любых горок, даже крутых. Несёшься с горы, в ушах ветер, чувство полёта и свободы. Казалось, распахни руки – и улетишь. Любили горку в начале деревни. Катались на санках, но у меня их не было.
Зато отец смастерил мне из круглой корзинки такое, чего не было ни у кого другого. Корзинку перевернул кверху дном, положил навоз из-под коровы, залил водой и поставил на мороз. Затем ещё раз полил. И на третий день я везла за веревочку свои санки.
Садилась в них и неслась с горы пуще ветра. Мои сани доезжали до самого льда и даже дальше. Всем желающим я охотно давала в них покататься. Вообще, в детстве, да и сейчас я поделюсь последним. Никогда не жадничала и одну конфетку делила даже на троих.
А когда в праздник гости приносили мне гостинцы, я раздавала всё своим родным, делилась со всеми, даже с мамой и папой.
Интересно, что все старшие братья и сёстры звали родителей “маменька” и “папенька”, а я: “мама”, “папа” или “мамка”, “папка”.
Любили мы горку большую, которая спускалась в овраг и делила деревню как бы на две части, одна из которой называлась Балахнёй. Туда нам родители ходить не велели: там всё время играли в карты, играли и взрослые, и дети. Кто дал такое название – Балахня, не знаю. Сюда, на горку, старшие ребята притаскивали сани, в которые запрягали лошадь, садились гурьбой и ехали долго-долго. Зато обратно, в гору, сани тяжело было тащить.
Катались на “шпалах”. Это согнутые трубы, где две “шпалы” были скользящими, переходящими в полукруг, который приходился на спину. С них кататься было страшно.
Во-первых, в валенках было трудно удержаться на узких трубах, во-вторых, они были высокие. Но всё равно любопытство побеждало.
В этой зимней сказке накатавшись, нагулявшись, устав, приходили домой, обедали или ужинали. И по очереди ходили ко мне на печку – все не умещались – на папкины рассказы.
А уж он был такой рассказчик! Просто слов не подобрать. Рассказывал “Муму”, читал сказки Пушкина. Где нужно, голос становился сильнее или, наоборот, тише, где просто замирал. Мы сидели, не дыша, ловили каждое слово.
Мамка подавала нам на печку-лежанку тёплое молоко с хлебом, и всё это съедалось одним залпом.
А когда мы стали постарше, он читал “Вечера на хуторе близ Диканьки” Гоголя, про паночку-ведьму, лежащую в гробу в церкви. Всем было страшно даже домой идти, хотя жили рядом. Ему, моему отцу, честь и слава, что приучил меня к литературе.
Это впоследствии пригодилось в школе, где я на праздниках читала стихи с чувством, с толком, а не “как пономарь”.
Катались мы и на коньках. Любимое место – “заводинок”, как едешь из Строгино, с левой стороны от моста такой залив, но раньше он не соединялся с речкой и замерзал быстро.
А летом там было любимое место для купания. С одного берега купаемся мы, деревенские, с другого – поселковые.
Я надевала видавшую виды шубёнку, старенькую, доставшуюся в наследство от старших, завязывала её клетчатым бабушкиным платком, на ноги – подшитые сапоги, на руки – варежки. Брала коньки у братьев. У одного – гаги со слегка выпуклыми лезвиями, у другого канадки – лезвия длинные, чуть ли не больше меня.
Верёвками привязывала к конькам валенки и – на лёд.
Сколько шишек себе набила, а кататься всё же научилась, даже ездила на одной ножке. Здесь был своего рода каток для больших ребят и девчонок и для нас, ещё не набравших роста.
Места хватало всем.
Гулять ходила, прежде управившись с делами. Воды натаскать, полы подмести, сходить, если нужно, за хлебом и солью в деревенский магазинчик, где работал весёлый и добрый дядя Петя.
В зимнее время в домах колхозников плели маты соломенные. Приходили к нам женщины, приносили простую деревенскую снедь: огурцы, капусту. Мама отваривала картошку в мундире. В одной из комнат нитки спускали вниз, брали пучок соломы, поперёк завязывали узелки, потом брали ещё пучок соломы и опять завязывали. И из этих связанных пучков получались маты.
Когда мы были маленькими, залезали на печку и смотрели на мастериц, которые не только ловко работали, но и пели протяжные грустные песни.
Мама запевала “Раз полоску Маша жала”, тётя Нюша – “Ехал на ярмарку ухарь-купец”. Все вместе пели про Сеньку Разина, бросившего княжну в набежавшую волну, про бродягу, про ямщика, коробейников…
В последние годы мы, коренные строгинцы, часто встречаясь, поём то, что пели наши матери и бабушки, тем самым вспоминая родных и близких.
И как бы мамка сейчас сказала: “ Спасибо, бабы, не забыто наше зерно!”
Спасибо тебе, моя милая мамка, за всё, что дала ты в жизни мне. Спасибо.
Между тем детство наше не кончалось! А с ним ещё продолжались детские приключения. Школа. Иду в первый класс. Нарядная, в коричневом сатиновом платье, сатиновом чёрном фартуке с крылышками. В портфеле из коленкора – круглый пластмассовый пенал, где лежали ручка с пером, цветные карандаши, простой карандаш, заточенный отцом; тетрадки в клеточку и косую линейку, а самое главное – букварь с забавными картинками, буквами.
Вот мой первый урок. Учеников много. Парты стоят в три ряда. На каждой парте чернильница-непроливайка. Учительница Анна Петровна (из Мякинино) – высокая, белокурая, в чёрной юбке и белой кофточке, волосы закручены валиком к шее, по бокам заколоты заколками.
Спереди как бы небольшой пучочек, тоже заколотый. Она всех рассаживает за парты, девочку вместе с мальчиком.
На первой парте сидит девочка с розовыми щёчками, аккуратно причёсанной головкой с косой золотистого цвета. А на виске приколот белый бант. Ладно сшитая форма. Вся она до того нарядная, что я кажусь себе уже не такой красивой.
Это Таня Никоненко, моя будущая подруга, с которой вожусь до сих пор.
Её папа, лётчик, геройски погиб на войне.
В классе гомон. Дети толпятся. Мы ещё не знакомы друг с другом. А нам предстоит четыре года учиться вместе. Меня сажает Анна Петровна на один ряд с Таней. Но сижу я с Вовой Бабаевым, самым плотным и высоким мальчишкой.
Наконец все уселись, и учительница рассказывает нам, зачем нужно учиться, для чего нужны знания.
Рассказывает о нашей Родине, которую мы должны любить беззаветно.
Первый урок прошёл незаметно. Мы все перезнакомились.
На другой день начались наши трудовые будни. В отличие от теперешних детей, мы долго писали карандашом в тетрадке с косой линейкой.
Был у нас и урок чистописания, где мы должны были понятно и красиво писать буквы.
Учиться я пошла с восьми лет, так как в детстве переболела всеми болезнями. Была худенькая, с подстриженными под горшок густыми волосами.
Училась я хорошо. Но была баловницей. Анна Петровна ставила меня в угол. Иногда я дула потихоньку в чернильницу, а за мной повторяла Таня Переносий, дочка военного, поселившегося у тёти Вари Пчелиной. Дунула однажды так, что обрызгала лицо и белый воротничок. То вдруг рассмеюсь над своим соседом по парте. Да мало ли было шалостей.
Закончив четыре класса в Строгино, мы пошли учиться почти за три километра в школу-семилетку села Троице-Лыково.
Сейчас там находится лавка для продажи церковных принадлежностей.
Надо отметить, что в этих двух школах я всё время участвовала в самодеятельности. Читала стихи, пела в хоре.
Здесь учителя были уже разные. Каждый по своему предмету. Директор школы – Князев Владимир Иванович, классный руководитель – Панкратова М.С., учитель математики – Соболькова Н.В., других, к сожалению, не помню.
Учиться было интересно. Я старалась учиться прилежно. Но вот с математикой не всё было ладно.

Возле Троице-Лыковой школы
В белом платье сидит Емельянова Надя из Троице-Лыково.
С шарфом – классный руководитель Панкратова М.А., далее – я и Графова Вера из Строгино.
Третий ряд, слева направо: Федина Нина, Верясова Галя, Черняева Зина (Строгино), Морозова Надя, Валисовский Коля, Горбатов Юра (все из посёлка).
Стоят, слева направо: Морозов (Троице-Лыково), Коваленко Петр (Строгино), директор школы Князев Владимир Иванович, Курасов Вова (посёлок).
Однажды на уроке Наталья Васильевна задала задачку:
“Двигались два поезда с разной скоростью…” – и вызывает меня. А я думаю о чём угодно, но только не о задаче.
Она говорит мне:
– Братья твои учились хорошо, а ты вот отстаёшь. А ведь с твоей матерью я тёрла пудру у помещицы Карзинкиной.
Воспоминание о матери придаёт мне силы, и я, наконец, справляюсь с задачкой.
На собраниях меня особенно не ругали, но вот Наталья Васильевна мамке говорила:
– Плохо с математикой, но как читает!
Наверное, такая моя натура – быть успешной не во всём.
Около школы был огород, там мы проходили трудовую практику. И помогали колхозу в уборке урожая.
Рядом со школой было военное суворовское училище с музыкальным уклоном. Каждый день мы видели этих мальчишек в форме, оторванных от семьи, а для других это и была настоящая семья.
В бывшей церкви у них была столовая.
Часто слышали мы разучивание маршей, сонетов.
Учительница пения приходила к нам из суворовского училища – такая модная, красивая. И мы хором с классом разучивали песню, такую тягучую “Среди долины ровные”.
В седьмом классе я познакомилась с мальчиком Сашей Белых. Он учился играть на кларнете. Разговаривали с ним через загородку. А встречаться стали гораздо позже, когда в селе Троице-Лыково колхоз построил Дом культуры и там показывали кино и устраивали танцы.
Как однажды приехали цыгане, я помню до сих пор. В конце лета остановились три кибитки в небольшой низине между посёлком и деревней Строгино. Остановились они, чтобы передохнуть и подковать лошадей. Заодно помогли колхозу подковать колхозных коней.
Были они недолго. А вот запомнились. Старшие нам велели: к цыганам не ходите, украдут вас и увезут.
Но что мне, деревенской любопытной девчонке! Подошла к ним не очень близко. Смотрю: стреноженные кони, один – каурый, а два – серые в яблочко. Пасутся возле шатра, и ходит среди них мужчина в атласной красной рубашке, на талии – широкий чёрный пояс, брюки заправлены в сапоги, в чёрной шляпе.
Бегают вокруг несколько ребятишек босоногих, одетых не по-нашему. И женщины, и девчонки – в ярких юбках, кофточках с треугольным вырезом впереди. На шее что-то блестит. Платки – с ярким орнаментом.
В котелке, подвешенном на палки, что-то кипит, и видно, как идёт пар.
Одна девочка, смотрю, идёт ко мне, я вроде собралась бежать, а потом остановилась, жду.
Девочка была меньше меня ростом, смуглая, курчавая, на лице – огромные тёмные глаза, на шее – бусы, как бы из копеек. Я потом узнала, что это монисты. Подошла она и говорит мне:
– Что стоишь? Что глядишь? Боишься меня?
– В своей-то деревне бояться, – отвечаю ей, – нет, не боюсь.
– Смелая, – сказала она в ответ, – а как тебя звать?
– Люба, а тебя?
– Аза. Приходи завтра, поиграем.
– Ладно.
Но дома мне была взбучка. Отец ругался:
– Зачем к ним подходила? Украдут.
А я в ответ:
– У них есть свои дети. Даже маленький плакал.
Мамка услышала, пожурила немного, а утром сказала:
– Вон узелок, отнеси. Там хлеб, огурцы, сало, помидоры. Да захвати бутылку молока.
Я не могла дождаться вечера. Да мне и не особенно гулялось с подружками. Аза уже ждала меня. Похвасталась, сколько у неё юбок, наверное, штук пять.
– У тебя таких нет.
– Зато у меня есть шаровары, – отвечаю я, – могу залезть в сад, нарвать яблок, а ты в своих юбках запутаешься.
– А что у тебя в руках?
– Узелок с гостинцами. Мамка вам просила передать бутылку молока для маленького.
– Пойдём со мной, моя мать тебе погадает.
Гадать? Так страшно. Но иду за ней. Свои ей кричат на своём языке, она что-то отвечает.
Аза отобрала узелок, куда-то отнесла и назад вернулась.
Её мама взяла мою руку, долго-долго смотрела на ладошку, а потом, не глядя на меня, сказала:
– Всё хорошо будет, дочка.
На следующий день они уехали.
“У меня будет всё хорошо”, – радовалась я, не ведая о том, что ждёт меня впереди. А впереди была жизнь, полная горя, потерь близких и других несчастий, что свалились на нашу семью, как из рога изобилия.
Вдруг заболела наша корова Марта, чёрная, с белым пятном на лбу. Подоила вечером её мать, молока было больше, чем обычно. Отцу сказала – что-то с коровой не то:
– Жуёт плохо, да и дрожит слегка.
Отец в омшаник – смотреть. Вернулся и говорит:
– Дела плохи, надо срочно звать Николая.
Это его друг дядя Коля Замотин.
Утром осмотрели нашу бурёнку и решили резать.
Я в слёзы, мамка тоже. Ведь поила, кормила. А какая умница. Однажды заблудилась и без стада и пастуха нашла дорогу домой. При вечерней дойке мне доводилось держать стеклянную лампу с зажжённым фитилем.
Мама сначала протирала вымя чистой тряпочкой, смазывала соски топлёным жиром, немного массировала соски, давала бурёнке кусочек хлеба и приступала умело и деловито к дойке.
Струйки молочные бежали по ведру, наполняя его молочным нектаром, а сверху было много пены.
И вдруг такой помощницы лишились! Потом оказалось, что до сердца коровы дошла большая ржавая иголка. Как она там очутилась, одному Богу известно.
Надо отметить, что к скотине и всему живому в доме относились с любовью и добротой.
Отец вовремя всё вычищал, складывал навоз в небольшую яму, чтобы потом удобрять поле, а часть раздавал соседям.
Яма закрывалась крышкой, чтобы мухи не летали.
Однажды к калитке прибился маленький пёсик. Он тыкался беспомощной головкой в траву и тихонько-тихонько повизгивал. Я его нашла и занесла дом. Разрешили оставить. Дали ему две миски – одну для воды, другую для еды.
А мне сказали:
– Завела. Ухаживай сама.
Как же я любила этот комочек с доброй маленькой рожицей.
На воротах пристройки были качели из суровых верёвок и старенького одеяла, я всем давала покачаться и погладить “моего детёныша”.
Назвала его Тузиком. Он буквально ходил за мной по пятам, ласкался ко мне, бегал со мной на речку, купался сам, смешно фыркая от воды.
Пёс подрос, а ранней весной убежал и больше не вернулся.
Искали, спрашивали у деревенских, но никто его не видел. Так я лишилась самого преданного друга.
Потом кто-то подбросил котёнка, такого серенького с голубыми глазами. И ему нашлось место в нашем доме. Котёнок боялся отца, был он иногда строг, а потом повадился спать к нему на печку. Ляжет со мной, а утром уже на печке. Назвала я котёнка Муркой. Игрун был необыкновенный. Привяжу к ниточке кусок бумаги, помашу перед ласковой мордочкой, а он и рад лапкой достать.
Любил брата Геннадия, а когда тот заболел, всё время лежал у него в ногах. Рос быстро и превратился в красивого кота, да- да, кота, который жалобно мяукал по весне, и его отпускали на улицу. Иногда он возвращался усталый, с ободранной мордой и свалявшейся шерстью. Пил только воду. Потом приходил в себя. Начинал есть, ловить мышей. Причём сам мышей не ел, а бросал их к ногам отца.
Отец трепал его за ушко и говорил:
– Молодец, Мурка. Все должны трудиться, – и давал кусочек мяса. Прожил он долго, а умирать старенький ушёл, не знаю, куда.
Не могу не рассказать о том, куда в Москву возил меня иногда отец. Первый раз – в цирк на Цветном бульваре. Удивление и восторженная радость на каждом шагу. Круглый купол, арена круглая, много-много ребятишек. А представление какое! Клоуны раскрашенные, одетые в немыслимые одежды. Весёлые, кувыркаются, смешат народ.
Вот наездник лихой на лошади. На ней – золотистая попона. На нём – серебристый костюм. Лошадь скачет по арене, а он то встаёт на спину ей, то переворачивается на скаку, то оказывается под ней.
А вот фокусник в чём-то чёрном с красным тюрбаном на голове. На наших глазах завязывает верёвки, а потом развязывает, достаёт из карманов цветные платочки, а их так много, прямо не видно конца.
А вот красивые попугаи пролетают в кольца, становятся на них и переворачиваются.
Вышел артист с большим медведем. Дети хлопают медведю, а он, встав на задние лапы, чуть кланяется. Кувырком переворачивается на арене. Такой большой, вроде неуклюжий, а какой ловкий!
Тигры в клетке. Полосатые, огромные, скалятся, немного страшно. Прыгают в зажжённые кольца, ходят по перекладине, перепрыгивают с одной тумбы на другую.
А какие с ними артисты! Женщина и мужчина с огромными палками в руках, в очень красивых костюмах, плотно прилегающих к телу.
Отец сказал в перерыве:
– Купи себе мороженое и приходи сюда.
Арена круглая, где сидели, позабыла. Выступления смотрю, а сама плачу, уже не до праздника. Представление закончилось. Все ринулись к выходу, и я со всеми убежала аж на Трубную площадь.
Народу много. Шум. Я встала и плачу. Подошёл милиционер. На меня нельзя было не обратить внимания. Уж очень резко я своим видом отличалась от москвичек.
Всё расспросил и довёл до цирка. А уж тут отец ищет меня.
Обнял он меня, в глазах слёзы, повёл в буфет, накупил гостинцев, а себе винца.
Дома сказал маме:
– Ох, Катюша! Я давеча нашу дочку чуть не потерял!
Водил меня в планетарий, Пушкинский музей, в Третьяковскую галерею, а когда я стала побольше – в Малый театр на спектакль Льва Толстого “Живой труп”. От всего этого впечатлений множество. Я и сейчас иногда хожу в Малый театр, театр имени Вахтангова, Цыганский театр, как позволяет здоровье.
Как-то мама нечаянно сожгла в русской печке все сбережения и всё ценное.
Копила на новую корову. Было похолодание, она прибежала из колхоза и протопила печку русскую, наварила щей, каши.
Ах, какие были мамины щи вкусные, а каша прямо сама просилась в рот.
Всё варилось в чугунках, которые вынимались из печи ухватами на деревянных ручках.
А, работая в колхозе, вдруг вспомнила, что хранила деньги в русской печке, прибежала, посмотрела: всё обуглилось, пропало. Заголосила во весь голос. Прибежал отец, трясёт её за плечо, а она, как невменяемая, сказать ничего не может, а потом как закричит:
– Деньги, деньги, – и показывает, что произошло.
Отец прижал её голову к себе и сказал:
– Деньги – дело наживное. Я думал, с ребятишками что случилось.
А много позже, в один из престольных праздников, когда в гости приходили родные, выпив рюмочку-другую любил повторять:
– Да, хорошо мы с Катей жили, даже печку деньгами растапливали.
Все смеялись, а мамка добрыми глазами смотрела на отца и качала головой.
Ходили мы за орехами, по грибы, собирали в Рублёвском лесу сосновые шишки для самовара.
Жизнь в деревне особая, всегда дела найдутся.
Учась в четвертом классе, я вместе с Лазоревым Борей и Лазоревым Женей ходила с пучками зелени, редиски, моркови в военный городок напротив теперешнего магазина “Щука’.
Деревня наша была на полуострове и имела сообщение с миром (Тушино, Щукино) – переправу на лодках.
Потом пустили белый катер-пароход с двумя каютами и двумя палубами наверху. Вот на нём мы и переплывали с сумками до Щукино, а там шли пешком до магазина продовольственного, где и продавали свои пучочки.
Всё продавалось быстро. Мальчишки клали выручку за пазуху, ждали меня, пока куплю продукты.
До прилавка еле доставала, но всегда просила:
– Мясо дайте с небольшой сахарной косточкой.
Селёдочку просила взвесить с толстой спинкой и побольше.
Остальные деньги заворачивала в платочек – сдача маме.
Придя из колхоза, мама всегда говорила:
– Помощница ты моя, молодец, доченька!
Отец со старшей сестрой Ниной, просто красавицей, продавали всё выращенное на рынке Всехсвятском (Ленинградском).

Вид на деревню Строгино со стороны Москвы-реки, 1960 годы
Однажды мы с Ниной пололи картошку. Эскизы с нас на пригорке рисовали художники, сидя на деревянных чемоданчиках, а перед ними на трёх ножках стояла доска. На ней – бумага.
Попросили меня водочки принести, я побежала. Принесла целую кружку. Они напились, и один продолжил рисовать мою красавицу. Получилась, как на карточке: голубоглазая, с пухлыми губками и неярким румянцем на лице.
– А меня когда нарисуете? – спросила я.
– Вот подрастешь – и нарисуем.
Они уехали вместе с портретом, а мы опять взялись за прополку.
В возрасте 13-14 лет я с подружками: Таней Никоненко, Аней Скворцовой, Валей Пчелиной, Валей Рогачёвой – бегала в посёлок смотреть кино, а потом оставались на танцы.
Клуб был первым бараком. В нём ещё была школа с первого по третий класс.
Подружки мои были видные. За ними “бегали” поселковые мальчишки: Гавриленко Коля, Хромов Саша, Гутаров Вова, Валисовский Коля.
А мне они были просто друзья, я для них – “свой парень”. Приезжали к нам в Строгино на велосипедах. Сидели на бревне вместе с подружками, а я всех угощала огурцами с чёрным хлебом и крупной солью.
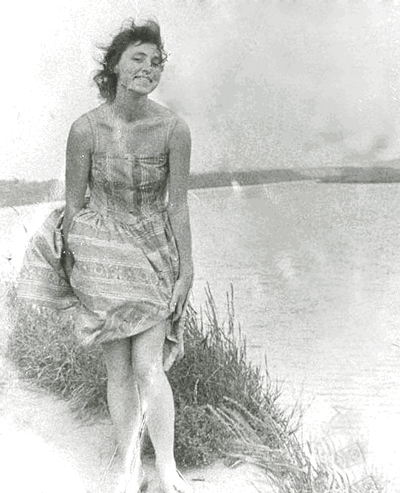
Любовь Фирсова
Берег Москвы-реки, 1961
“Сколько веков Москва-речка живет,
А все не стареет и дальше плывет”
По деревне иногда проезжали “старьёвщики”: собирали тряпьё, а за него давали нехитрые игрушки – свистульки, бумажные языки, маски и мячики, небольшие, с кулак, из красной, синей, жёлтой, сребристой бумаги. Мячики были на тонкой резинке и подпрыгивали не хуже чижиков.
Любили мы, ребятишки, смотреть деревенские свадьбы. Кричали: “ Тили-тили тесто, жених и невеста”.
Забирались на завалинки и смотрели во все глаза на молодых. Им кричали: “Горько”– они целовались.
На столах – закуска, вино. Невесты были в белых платьях с фатой, женихи – в костюмах с белым платочком в кармане.
Нас тоже угощали всякой вкуснятиной. Мы рано понимали, что детей не находят в капусте, их не приносит аист, а рождаются они от любви. И ребёночек появляется из живота матери.
В пятнадцать лет все девочки поголовно заводили дневники, где писали стихи и любимые песни, украшали их фотографиями артистов, открытками, сейчас сказали бы гламурными, где были изображены дамочки и кавалеры в сердечках, с надписью “Люби меня, как я тебя”.
Дамочки были в красивых платьях, с цветами в руках, а кавалеры – непременно в шляпах.
Первый телевизор появился у тёти Клавы Рогачёвой. Телевизор был небольшой, с маленьким экраном, а впереди – большая линза с жидкостью, которая увеличивала размер экрана.
У нас было выражение: “Идём к тёте Клаве на телевизор”.
Я просто не вылезала от них. Смотрела все передачи. Особенно мне нравилась дикторша с большой косой вокруг головы, красивая, нарядная, с приятным голосом.
Тогда я мечтала, что буду обязательно дикторшей, а стала медиком: окончила Медицинский институт им. Сеченова.
Хочу обратиться к ребятишкам сегодняшнего времени. Любите и почитайте своих родителей, ведь домашний очаг зажжёт в ваших сердцах любовь к вашим близким, любовь к малой Родине, любовь к России.
Знаний и удачи вам.
Очерк опубликован в книге «Радуга желаний», издательство «Феникс-Плюс», 2009.
Источник: сайт ЛИТО Строгино


